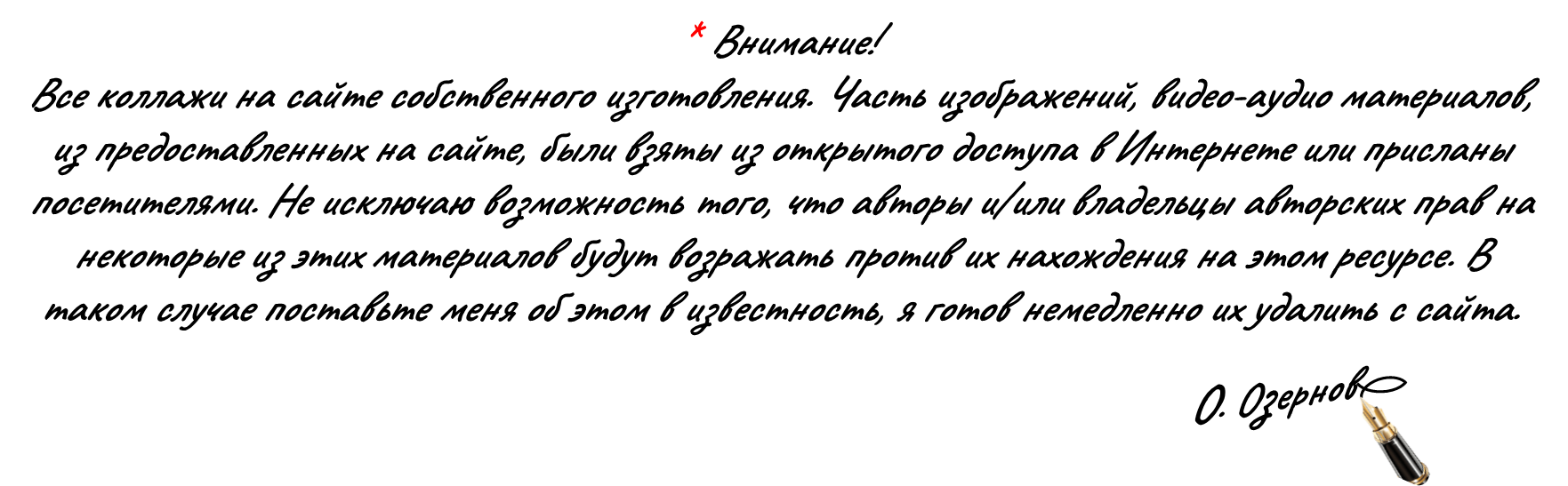АЛИКОВЫ ДНЕВНИКИ
(часть 3)

(см. сноску *)
«Аликовы дневники» (отрывок, черновик). На правах рукописи ©
Гицели и манная каша

Главное в жизни – научиться любить и забыть ненавидеть. Поводов и к тому, и к другому жизнь подкидывает сплошь и рядом. Дальше выбор, за которым, шо выросло, то выросло. И Суд с прокурором, адвокатом, судьёй и исполнителем приговора в одном лице.
У одесского мальчика первыми в жизни поводами ненавидеть были манная каша, пенка на молоке и гицели.
Первые, вызывали физическое отвращение, что проще, а уже потом ненависть. Вторые – сразу ненависть, и ничего кроме.
Манная каша, от долгих раздумий над ней, умела ещё и застывать до торчания воткнутой ложки, становясь ещё более мерзким наказанием переживаемого момента. И комочки… Скользкие, тошнотные комочки… От размера со спичечную головку, до крупной фасолины! Воспоминания до сих пор морозом по коже.
Недалеко ушла в научении ненависти, канареечных оттенков пшённая каша, но это уже позже, во времена военизированной флотской молодости. В ней торчали вилки, и сливочное масло не помогало.
Любой ребёнок в Одессе должен быть упитанным. Худой ребёнок – приговор родителям. На улице и во дворе таких родителей презирали, не давали им в долг, подозревали в нехорошем эгоизме. Сам ты можешь быть худым, ребёнок толстым быть обязан!
В те времена государство регулярно взвешивало детей по всей стране. Начиналось это, понятно, с роддома, потом в детсаду-яслях, потом регулярно в школе, пионер лагерях в начале и конце смены. Цифры прироста веса у пионеров за смену были главным показателем их здоровья, заодно, и хорошей работы администрации лагеря. Рост меряли тоже, но более снисходительно.
Сегодня, таки думаю, это всё от близости недавно закончившейся войны. Вид худого дитя у всех, включая правительство, невольно ассоциировался с ней. В том государстве все должны были быть сыты. И были.
Манная каша здесь играла весомую, во всех смыслах, роль. Она была везде, на всех столах всех домов, учреждений общепита и наробра́за. Деться детям от неё было некуда. Манная каша порождала в ребёнке тягу к предприимчивости, вплоть до мошенничества, и изобретательности. Бдительные мамы и бабушки старались не отвлекать глаза от своих чад, когда тем надлежало поедать это древнее блюдо.
Но, и удачи не обходили стороной. И в моменты слабости старших каша мгновенно обретала способность летать за окно, как в «Денискиных рассказах» Драгунского, или в мусорное ведро, или за близлежащий радиатор. Главным было смотреть в потолок, канючить слова, отвлекать старших нытьём, пока каша не обретёт нужную для полёта твёрдость.
С молочной пенкой – легче. Не глядя долго на её противные морщинки, меняющие свой рисунок от каждого движения воздуха, нужно было быстро подцепить эту белую соплю ложкой, и выбросить куда подальше. И, не дай Бог, шоб при этом утонул в чашке какой-нибудь ошмёточек этого горя. Ощутить его потом в безмятежном горле было смерти подобно.
Гастрономическая ненависть не имеет ничего общего с ненавистью к людям. Хотя, бывает, встречаются во взрослой жизни особи со всеми признаками манной каши и молочной пенки, вызывающие детские рефлексы отторжения.
Одесские пацаны ненавидели ги́целей, причём утробно, как положено ненавидеть фашистов и расистов ЮАР. Им делали войну и гнев народный. А какой одесский пацан не партизан!
Гицели регулярно ездили по городу и отлавливали собак. Причём, не только бродячих, но и отбившихся от хозяев, ухоженных, и расчёсанных собачек в дорогих ошейниках с номерками. Чем породистей собачка и дороже ошейник, тем радостней ловили их гицели.
Крик «Гицели едут!!!» поднимал дворы и окрестности.
Ездили гады на спецмашинах, старых «газончиках-зисах», со снятым кузовом, на раме которых, стоял железный ящик, размером с три гроба. В задней стенке гроба была дверь-решётка со щеколдой. Из-за дверной решётки в мир смотрели бесконечно растерянные, грустные глаза отловленных собачьих судеб. Они не лаяли, не выли. Они плакали в мир, предчувствуя трагический конец, и без того не долгой собачьей жизни. Их везли на мыло, и вся Одесса за это знала. Питомников тогда не было. А, если вся Одесса говорит одинаково, значит, Одесса знает.
Ухоженных собачек продавали найденным хозяевам за приличные деньги. Породистым и ухоженным, и не только собачкам, всегда легче в городской жизни. Их могут не один раз продать и купить, но породистость определяет повышенное внимание и заботу хозяев и продавцов.
Между казематным ящиком и кабиной грузовичка была приделана скамейка, на которой восседали два гицеля. Их головы возвышались над кабиной так, чтоб была возможность обозревать поле охоты на все 360 градусов. С боков ящика в крюках лежали жуткие огромные, сетчатые сачки с длинной мотнёй.
Машина двигалась медленно, как на похоронах, мы россыпью за ней, сверкая партизанскими глазами, и делая вид, что ни при чём, гуляем себе по-одному.
Завидя очередную жертву, гицели на ходу спрыгивали, хватали сачки и коварно окружали несчастное животное. Заходили с двух сторон, крадучись, один загоняет, или суёт приманку, другой ловит. Отработанная тактика. Те ещё ловкачи-виртуозы, мать иху за ногу! Потом несли или тащили волоком в сачке собачку к ящику, и впихивали туда к остальным бедолагам.
Видеть бьющееся в сетке, скулящее создание было невыносимо детскому сердцу. И было во всём это нечто за гранью добра и зла.
У нас была своя тактика и своя задача. Не дать свершиться злу. Самое простое, сорвать охоту, спугнуть собаку свистом, криками, стрельбой из рогаток. Вершиной партизанской войны было суметь незаметно от водителя грузовичка подкрасться в суматохе к ящику сзади и… открыть дверь-решётку на ящике. Пара наших, кто постарше, брали на себя гицелей, швырянием в них заготовленных сюрпризов, даже, забегая им дорогу, или наскоками цепляя за жуткие сине-серые халаты. Так птицы отбивают птенца от крадущейся лисы. Один отвлекал на себя водителя всеми возможными способами. Один выпускал невольников из ящика.
Запиралась решётка незатейливо скобой из стального прута или куском собачьей цепи.
Какое же это было великое счастье видеть, вырвавшихся на свободу собачек! Некоторых, еле живых от невыносимой ящичной жары, и сумевших, только выпасть из клетки на свободу, мы подхватывали на руки, и бежали, бежали, бежали, не оглядываясь в страхе от погони. Погони были. Да, не остановить бегущего на свободу в разные стороны партизана.
А нечего собак на мыло пускать!
Великое это чувство свершения справедливости. Пусть детской, пусть наивной, но справедливости. А когда, спасённый тобой со́бак, напившись воды, благодарно лизнёт тебя в нос, так это ни с чем несравнимо.
Потом пытались пристроить таких в дом, и были гонимы коммуналками, ходили по дворам, предлагая соседям взять в жизнь навсегда. Накормив и наигравшись с ними досыта, оставляли вечером в укромном уголке под лестницей во дворе, в надежде утром продолжить веселье.
И не находили их утром, и грустили до следующего похода на гицелей.
Не помню в том детстве стай бездомных собак. Бегали парочки-одиночки… Если стаей, то только стаей любви, за очередной, созревшей к ней физически, шерстяной невестой. Тогда, в той стране моего детства, и людей бездомных не было, и собак на улицу не выбрасывали. Добрее люди были.
Породистых собак было меньше, людей породистых - много больше.
Гицели одесские… Серые небритые, жизнью битые мужички, с лицами могильщиков…
Благодарен вам, за данную возможность познать вкус доброго дела во имя справедливости, спасения ближнего своего, пусть и хвостатого, пусть и мохнатого брата меньшего.
Вы кормили себя и детей своих горьким хлебом в собачьей шерсти. Понимаю, работа и грязной бывает. Нет уже во мне той, чистой от разума, детской ненависти. И вас уже, скорее всего, нет на этом свете... Простите нас, пацанов с Молдаванки, несмышлёных, послевоенных!
Мудреем с годами. В мудрости ненависть растворяется и всё больше прощения себе и людям.
Так! Не делайте слёзы!
Гицели гицелями, а прощения у манной каши и пенок просить не буду!
И нет такой мудрости, в которой можно растворить мою ненависть к ним. Это не трожь! С этим уйду жить другую жизнь в другом мире.
© Copyright: Олег Озернов, 2020
Свидетельство о публикации №220082201168

Кто ещё шил в Одессе, так это одноклассник по крови Вовка Поляков. Рыже́е Вовки в школе не было. Вовка, из обожаемого мной, светлого племени веснущатых людей, носителей божественного знака - эфелид ... Их ярко белокожие лица Господь избирательно и щедро пометил значками Солнца. Чтоб сомнений в такой избранности ни у кого не возникало, Он зажёг им волосы, тем самым благодатным рыжим пламенем, которое не обжигает, только светит и греет миру, всем вокруг. И мне кажется, я понял в чём здесь его божий промысел. Это, чтоб люди в ожидании ежегодного схождения кувуклийского Благодатного огня на землю, встречая веснушчатых, знали, что Бог всегда в нас и с нами. И, сколько не встречал, веснушники милы, добры, честны и застенчивы. Они наивно прячут эту глупую застенчивость под многими талантами, изобретательностью во всём, и мудрой простотой. А что делать? Неуверенность в себе вынуждает быть прекрасными в целях маскировки. Они всё больше озорны и простодушны. В дружбе вернее не найдёшь. Не знаю злых среди них, ехидных не знаю, горьких. Много удовольствия и благодарности знаю от того, что двое из них есть в моей жизни, и так уже за шестьдесят годочков нашей дружбы. Вторым записан в жизнь Валерка Ходос. Дружбане́е этих ребят моя жизнь не знала. О Валерке, этом светлом увальне позднее. Здесь о шитье в Одессе.
И да, Вовка таки шил. Из него получился бы великолепный портной. Он начал шить раньше, чем школьная арифметика стала почковаться в отдельные алгебру и геометрию, то есть, в классе четвёртом. Всё простое, надёжное, красивое на Земле сделано людьми, с думающими, умными, беспокойными руками. Таким рукам без дела кранты, не знают, куда себя деть и зачем они. Возьмись они за ткань, металл, камень, и эти вещи превращаются в красивое и полезное; возьмись за женщину - получается крепкая семья, уют, верность и правильные дети;
возьмись за поломанную машину, она начинает работать, как новая; за старый дом - и он преображается в себя лучшего, чем был в начале жизни. Глядя на эти руки в работе, успокаиваешься любованием их действа, и успокаиваешься верой в добротное продолжение жизни. А когда к ним прилагаются светлая душа, умно фантазийная голова и щедрое сердце, миру является Мастер. Мир держится на Мастерах.
Много встречал Мастеров. Злых и пакостных среди них не встречал.
Мой рыжий веснушник, друг пожизненный, Вовка Поляков - Мастер. Теперь уже седой, а тогда…
А тогда Вовка шил, из всего, что попадалось в руки всё, что взбредало в его чудную рыжую голову. Напульсники из тонкой кожи и дерматина, всевозможные штучки, заменяющие пеналы, кармашки для всего-чего, и прочую милую детскую фигню. Позже, когда замелькали в городе первые редкие джинсы, завезённые китобоями, Вовка нашивал нам с Валеркой, похожие на них штаны из тонкой плотной ткани цвета хаки. Эту замечательную и практичную ткань он покупал в «Военторге» на деньги, сэкономленные нами на завтраках. Помню те клешатые штаны, прохладные в жару, тёплые в морозы. И, как часто сидел в его, заваленной всяческим мастерством комнате, болтая ни о чём под стрёкот его швею́шки. Да, и ремни к штанам были, самые разные и надёжные.
Ещё, из Вовки великолепнее портного получился бы фальшивомонетчик. Он рисовал нам деньги, и настоящие удостоверения в красных корочках, для нашего тайного мальчишечьего общества троечников. Жаль, кроме, как друг дружке, показывать их было некому. Ведь, общество было тайным, и конспирацию никто не отменял.
Уже в классе шестом, седьмом, когда мама перестала шить на продажу, и мне было позволено прикасаться к «Ладе», не отставая от Одессы, я тоже шил, из чего запомнились клеёнчатые и брезентовые конверты-патронташи для инструмента и обложки для тетрадей-дневников.
Выражение - «Одесса всегда немножко шила», это ведь, не о кройке и шитье. Это о неизбывном, казалось, желании одесситов иметь, честно заработанный приварок счастья в «рюшиках» и с маслом, к спецовочному, официально оформленному бытию. И монархи, бывало, вышивали крестиком, но это другое.
В моей памяти апофеозом смысла этого крылатого выражения была полу-подпольная швейная мастерская, затеянная, одним из помощников капитана на тб/х «Леонид Собинов» в кругосветке о 1974 годе. Не знаю, чего он шил сотням дам из экипажа, а мужикам он ваял неплохие брюки, костюмы из иноземных кримпленов и прочих тканей. Придёт с вахты, и ваяет. И всего-то пять долларов работа за штаны по последней моде… С карманами…

Здесь я первоклашка, прижившийся в школе, принявший её, не только, обязательной данностью, но всем своим мальчишеством. Размеренно движется спокойной поступью уроков, предсказанный, не мной заведенный, порядок дней. Прирос друзьями, удивился своему новому интересу к девчонкам, которых, вдруг, оказалось в мире много. И вот они, рядом, разные, непривычные, глазастые, с бантиками и в фартучках. Теперь получается - без них никуда. Во дворе их не случилось, Ларик не в счёт. А тут… Косы, косички, хвостики, стрижки, спинки стараются, к партам пригнувшись. Это впереди тебя, если чубчиком белобрысым вперёд, и не смотреть на классную доску или в окно, или в тетрадь. А на твоём стриженом затылке, наверное, иногда, чей-то их взгляд из-под чёлочки, из сидящих позади. Последний урок, только начался. И последнее обязательно должно с чего-нибудь начинаться.
У доски Валентина Фёдоровна. До четвёртого класса она будет нашей единственной учительницей. Осенняя настороженность к классной давно позади. В остатке, любопытство, полезный ученический стра́шик перед ней, зачатки почтения и послушности. А с ними, определение границ дозволенности в поиске возможного компромисса между дозволенным, и множеством мальчишьих искушений. Всё, как положено первоклашке, врастающему в школьную жизнь.
Апрель разлился в окнах и сердцах. Там за окном всё новое, свежее, чистых цветов синего неба, молодой зелени. И мы, и школа, и Валентина Фёдоровна уже плывём в законной усталости последнего урока. Она вида не подаёт. А мы… А мы не задумываемся над всем этим, сидим себе, досиживаем . И вообще! У меня через четыре дня День рождения! О чём мне думать, если это второй по значимости праздник, после Нового Года, и только, на эти праздники мне дарят подарки! Редко, но бывает, интересно, что на этот раз…
Все серьёзности жизни всегда случаются неожиданно, и застигают тебя именно в такие моменты расслабления, усталой умиротворённости, и предвкушения чего-то особого приятного. А что может быть приятней, мечтаний о подарках в день твоего рождения.
Новый, незнакомый здесь гул, вдруг зародился в околомоём пространстве. Сначала тихий, подспудный, едва уловимый, зарождающийся в недрах, непонятно чего. И очень быстро он стал нарастать, лавинообразно заполнять всё вокруг, превращаясь в ураган. Так извергаются вулканы. Наверное… Тридцать спинных мо́згов, считая учительский, почувствовали всеми собой приближение урагана к дверям класса. Шум, крики, топот ног. Вдруг, дверь распахивается, и какая-то старшеклассная мордаха, - воплощение всех восторгов мира, истошно вопиет - «Человек в космосе!!!». Когда тридцать ребятишек вскакивают из-за парт одновременно, это тоже, немножко ураган.
Зашлись сердца в одном порыве, и мы выбежали из класса в коридор, вливаясь в общий ор и ликование. Все прыгали, обнимались, кричали каждый своё, смеялись. Мы, учителя, технички, все, кто был на этаже, включая фикусы и ведро со шваброй . Впервые здесь и там звучало имя Юрий Гагарин, сразу героическое, высокое и родное. Так рождаются эпохи.
В этот день продлёнки не было, всех отпустили по домам к радиоточкам, редким линзам водяным у телевизоров, в объятия весёлых домашних. Изо всех открытых окон звучал Левитан и оркестры. Никто не смотрел под ноги, все смотрели в небо с надеждой увидеть там космонавта, помахать ему ладошкой. И особенно те, кто рассказывал, что всего два года назад, видел там, пролетающий усатый шар, первого в мире искусственного спутника Земли.
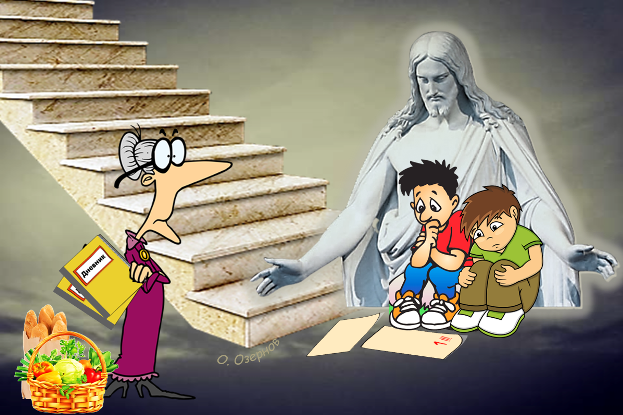
В мае Одесса буйствует и распускается. С растительностью, нравами, дворниками и фауной, распускаются учителя. Это у них в предвкушении трёхмесячной отпускной амнистии от школьной повинности. Даже, тех из них, кто в профессии по призванию и в любви к детям, май всегда застаёт уставшими от издержек, и того, и другого. Учителя напоминают корабли, с трудом, на остатках бункера, добравшиеся до родного порта, и уже предвкушающие скорый ремонт, с покраской бортов, пополнение запасов, и встречу экипажа с семьями. С уставшими в осенних, зимних штормах учителями и завучами, распускаются ученики. Все ещё ходят в школу, но больше, как в музей народного творчества, но никак, не в кузницу будущих поколений. Душой все уже в лете. Тем более, что май в Одессе, он уже лето и есть.
Как и везде, в нашей школе царил матриархат. Присутствие мужчин в школьной цивилизации подтверждалось, лишь географом - Исай Михалычем, учителем физры́ в старших классах - Йосьйосичем, и учителем труда, которого начисто не помню. Учительскую, кроме дежурного канцелярского запаха, преобладающе полнили парфюмные ароматы «Пиковой дамы», «Красного мака», «Ландыша серебристого», пудры, свежих кур, сосисок из многих учительских сумок, пакетов и авосек. Букет ароматов, лишь немного утяжелялся мужскими оттенками «Шипра», табака, спортивного пота, и лёгкого перегара по праздникам. Иначе в той игре полов быть не могло.
Это, если зайти в учительскую на педсовете. Пару раз не по своей воле заходил, знаю.
А вообще, если уж о полах зашла речь, то главными запахами школы были запах скипидарной мастики для пола, и особенный густой амбре пищеблока. Школа утопала в паркетном скипидаре. Его аромат вечерами, когда школа пустела, разносил специальный человек со специальной щёткой на одной ноге - натирщик полов. Щётка напоминала японские котурны с небритой подошвой, а натирщик - лыжника, бегущего на месте, боком, многокилометровый марафон, с одной лыжей и без палок. Иногда, уходя с продлёнки, видел его в работе, ещё и с книгой. Сегодня думаю, что все те натирщики полов, обязательно были в душе философами и поэтами, а некоторые - ночными оперными певцами. Чем же ещё заполнять ночную голову, натирая мастикой квадратный километр школьного паркета… Потом уже, с ростом всеобщей индустриализации в стране, им выдали вместо щёток тяжёлые, рычащие, огромные полотёры, и они от накачки мышц ног перешли к накачке мышц рук.
С мастичными полами в части запахов соперничал школьный пищеблок. Что несокрушимо объединяет все, изведанные в судьбе моей казённые пищеблоки, так это их запах, - острый, густой, неповторимый, не поддающийся спектральному анализу. И это не запах еды универсального, для всех них, меню. Это запах особенных тряпок, плит, варочных котлов, недостач, ревизий, жира, каш, компота, государственности, дешевизны, простоты, и уверенной в себе, обязательной сытости. В том общепите было много вкусно-памятного, полезного, главное - всё было натуральным. И, не так уж важно́ соотношение кулинарных компонентов, и их соответствие гос. нормам закладки в блюда, если все они натуральны. И много мне ближе тот, грубовато поданный в алюминиево-фаянсовой сервировке щедрый натурализм, нежели сегодняшние «птичьи кучки» синтетических «изысков» с соусными узорами в жмотских листиках зелени, выложенных на огромных квадратных тарелках, именитыми шефа́ми и ше́фиками современных храмов живота. Не стол в застолье главное, но то, кто сидит, что звучит, и слышится за ним. Куда важней в жизненном меню, соотношение пищи плотской и пищи духовной. Плотское гурманство по́шло, если возобладает над духовным. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в том. И да… обожаю вкусно поесть, так и не научившись, питаться святым духом, не отставая в этом, от глупого человечества, но сегодня жаль его и себя. Мы навдруг лишили себя, действительно чего-то невероятно, изысканно вкусного, истинно гурманского…
Как есть, так есть, и я грешно́ сладко вспоминаю, почти бесплатный рабочий вкус варёных макарон с сухарной котлетой, пюре с комочками и настоящей сосиской, растерянную в океане борща ложечку сметаны, и кубик масла со слезой, на угнетённой им, чекушке-черняшке усталого кирпичика. Спасибо тебе, Советский общепит, ты был доступным всем, справедливым, щедрым, натуральным и полезным здоровью! Твоя, разбавленная натуральным кефиром сметана, была вкусней и натуральней, сегодняшней многопроцентной неразбавленной химической смеси непонятно чего. А запахи… Хрен с ними, и любимый верный конь пахнет потом порой! В мае школа распахивает окна настежь, в них врывается вкусный весенний воздух и все «домашние» зимние запахи охотно сбегают в свободу улиц.
Самое время подумать, что потерял нить размышлений о распустившейся майской Одессе, и с ней, о распустившихся учителях, отдельно взятой школы на Молдаванке. Ничуть ни бывало. Нить одна, просто, она иногда меняет цвет и толщину в процессе шитья множеством крестиков-кусочков, единого полотна цельной картины чьего-то одесского детства.
В майскую пору учителя добреют, с трудом находят в себе остатки строгости, педантичности и пунктуальности. Так и ходят, подражая акациям, распущенными цветками, и всё чаще смотрят за окно. Синеют дневники и классные журналы, всё реже в них красный цвет двоек и замечаний. Всё реже вызовы к доске, всё больше снисходительных контрольных, и сочинений на вольные темы, главная из которых - «Как я проведу лето». Счастье способствует непредсказуемости, вплоть до горя, так учит жизнь. Не всегда, но так. И, как не стать фаталистом, если в самом его разгаре, горе и случилось.
В благостном томленье наступающего лета разразился майский гром, и сестра его, ослепительная молния окропила красненьким жёлтые листы моего и Валерки Ходоса - друга верного, дневники. Обидно это, пройти всю войну на передовой, и схлопотать такое во дни её последние.
Роль снайпера-громовержца мастерски исполнила, окончательно распустившаяся по весне математичка, Анна Израилевна.
Милая полная женщина, в скучных пиджаках поверх весёленьких платьев, трудно определяемого до сорока лет, возраста. Мамочка, счастливо ошарашенная судьбой поздним ребёнком, вдогонку двум очень старшеньким. В седоватых кудряшках, с выпуклыми добрыми глазами, бородавкой у ноздри, офицерскими тонкими усиками, толстыми губами, и необъятной душой. Не знающим её, никак было не заподозрить в этом образе одесситки, вечно делающей базар с кошёлками, математические способности. Педагогические - да, математические - нет. Раз в год, ставя очередную двойку, она ласково говорила мне - «Алик, у тебя хорошая голова, но ты редкий лентяй». Первое воспринималось привычно, второе - звучало обидно несправедливо. Какой лентяй, если в делах просвета не знал, не покладая рук и ног?! В этот раз она без всяких фраз влепила мне кол, а Валерке двояк за контрольную. В постыдный кол милая училка заценила, не столько мои математические способности, они вполне тянули на снисходительную «троечку», сколько, всю свою, накопленную за год любовь, к моим выходкам на её уроках. От слова «достал!». Обе цифры в дневниках были особо красно-кровавы, да ещё выделялись, вопиюще крупным размером. В последних листах дневников они прозвучали контрольным выстрелом, добиванием после расстрела, тянувшегося весь учебный год.
Даже, хищники на водопое неуклонно придерживаются извечного моратория на взаимное поедание, А, что есть, самый конец учгода, как не тот водопой?! Кол в дневнике за две недели до конца учёбы хуже осинового, в смысле, посидеть на нём. Нужно ли объяснять кому-то, в каком настроении мы с Валеркой брели из альма-матери домой. Первые два квартала мы выбирали виды, грозящих нам казней, в арсенале родительских предпочтений рабочих и профессорских сословий. По всему выходило, что угроза Валеркиной жизни, была на порядок выше угрозе моей. В профессорских семьях, да ещё медицинских, пытки всегда изощрённей, чем в пролетарских. Валеркин папа был профессором медицины. Живым его не застал - погиб в уличном ДТП. Мама Валерки - большой гинеколог одна воспитывала Валерку и старшего брата Вадика. Тут без особой материнской строгости никак. После моей мамы и завуча школы Нины Михайловны, Галина Георгиевна была третьей из всех, известных мне, строгостей моего детства. Поводов взвешенно тру́сить было выше всех крыш. Чем мы и занимались, бредя домой унылыми щеглами. В повороте на Торговую, в квартале от Валеркиного дома, у самого края первого расстрельного рва родился план. Мой ров был на одну остановку дальше. План был отчаянным в своей простоте, доступности и бесславии, - вырвать из дневников листы с приговором, и сделать вид, шо так и було́. Утвердили сразу, и сразу полегчало. Дело оставалось за выбором места преступления. Выбирали кварталов десять-пятнадцать, заметая следы, проверяясь от слежки внезапным завязыванием шнурков на кедах, и поиском хвоста в отражениях витрин, точно, как иностранный шпион в фильме «Поющая пудреница», увиденном недавно на школьном кинопоказе в актовом зале. Казалось за нами следил весь город. Дневники жгли портфели, солнце - асфальт, страх - задницы, совесть - сердца. На Подбельского, посредине между цирком и Соборкой наконец нашли. Вековая парадная с тяжёлой дубовой дверью в чугунной ковке, выходящая на улицу. Здесь не найдут… Место будущего преступления встретило таинственно-монументальной прохладой тёмно-зелёных стен с высокими белыми падугами, мраморных бельэтажных ступеней и широких парапетов по бокам от них. С площадки бельэтажа начинались две лестницы, ведущие, одна на верхние этажи, другая поуже, - вниз к двери во двор. Расположились на парапете, достали из портфелей дневники, и задумались каждый о своём. Предстоящее преступление, было чем-то новым в ряду цепочки детских преступлений, обычных, в биографии каждого одесского мальца. Мрамор парапета холодил задницы, страх - спины. Стояла тишина. Договорились рвать листы из дневников разом, на счёт три. Так договариваются, заблудившиеся в несчастной любви самоубийцы, собираясь прыгнуть в пропасть с обрыва. На счёт три раздался хруст выдираемых листов, скрипнула входная дверь, и в парадную вошла Анна Израилевна.
Её руки были полны сумкой, распухшей нашими тетрадями, и авоськами с едой вперемешку с молочным стеклом. Чем были полны её математические глаза, запомнилось, но описанию не подлежит. Думаю, то парадное, ни до того, ни после, такой выпуклости оптики до затылка, сразу у трёх членов человечества, не видело. Общая окаменелость присутствующих, по продолжительности и качеству исполнения, вполне могла бы стать рекордом игры «Замри!», популярной в те времена у ребятни, и бандитов, попавших на мушку, в милицейских облавах. Первой из нас вспомнила разговорную речь Анна Израилевна - «Мальчики…». Какой здесь ставить знак препинания, - большая загадка мне до сих пор. Даже, если поставить десяток вопросительных, восклицательных знаков в конце, никак не получится передать интонацию, произнесённого горлом и пищеводом учительницы, сло́ва.
Жаль, не случилось в тот момент под рукой толкового советского скульптора, который смог бы запечатлеть в граните, наши окаменелые личности, двух, застигнутых гитлеровцами на рельсах врасплох, партизан-пионеров. Добавить к нам горн, колосья и автомат ППШ, могла получиться, достойная ВДНХ скульптурная композиция, на которую съезжались бы посмотреть пионеры со всего СССР. А может, и комсомольцы! Из стеклянных вставок входной двери от страха сбежало солнце, тень сошла на мрамор ступеней. Жизнь пионеров подходила к концу.
Анна Израилевна устало поднялась к нам на пяток ступеней, расположила свою поклажу на парапете, и произнесла второе слово - «Дайте!». С её, протянутой к нам рукой, она сразу стала похожа на величественный памятник Дюку, тоже в кудряшках, но в женской одежде и без венка.
На что были похожи мы, догадается любой, хоть чуть наделённый воображением.
Листы и дневники перекочевали в мягкую, пухлую длань карающую.
- Завтра в школу с родителями.
Пять слов, а сколько смыслов! Самых страшных в жизни школярской.
Пока мы вспоминали разговорную речь, Анна Израилевна втиснула улики в сумку с тетрадями, собрала пожитки, и тяжко вздохнув, двинулась по боковой лестнице вниз, ко двери, ведущей во двор. Дверь за ней пружинно хлопнула контрольным выстрелом в судьбу двух белобрысых неудачников. С момента вырывания листов мы, так ни разу и не посмотрели в глаза друг другу. Не было необходимости, ничего умного прочесть в них было невозможно. С трудом преодолевая окаменелость и озноб, в вялом любопытстве, наши тела, прошли по ещё тёплому учительскому следу к той двери, и одно из них приоткрыло загадочную. За дверью жил маем огромный двор, а в его центре, окружённый весёленьким штакетником, детский сад. Всё цвело, ярко хулиганило солнце, играя с весной, Анна Израилевна забирала из садика дочку, прощалась с воспитательницей.
Не сговариваясь, мы побежали на улицу умирать. Даже пионерам, бывают не чужды мысли о суициде в отсутствие поводов, для настоящего подвига. Врага, на которого можно было бы броситься, защищая Родину, под рукой не было. Суицид, да ещё и парный - глупая смерть. И лозунг «Всегда готов!» здесь не применим. Жить действительно не хотелось, зато, сильно хотелось кушать. По дороге к еде и родному очагу молчали. Каждый не понимал, как могло случиться так, что отойдя, чуть не пятнадцать кварталов от школы, петляя, и заметая след, меняя в целях маскировки выражения лиц, мы оказались в этом страшном месте с детсадиком во дворе. Именно в котором Анна Израилевна имеет свой живой интерес. Валеркин дом по пути был ближе моего. Он ушёл первым. Расстались, не прощаясь. Его милые веснушки во всё лицо рыжели ярче обычного на фоне снежно-белого, зимнего лица. И через квартал мне уже казалось, я услыхал его первые крики бесштанной ремнёвой боли. Тем трудней был мой одинокий последний путь к неизбежному. Вся моя длинная жизнь пронеслась перед глазами, и было горько. В том пути на непослушных ногах, вдруг, непонятно откуда, как-то по-новому осмысленно, зазвучали слова «судьба», «рок», «фатум», «провидение», «доля», начитанные на уроках литературы, и в приключенческих романах ночью с фонариком под одеялом. И это было неспроста.
Что, за редким исключением, отличает родителей всех времён и народов, так это нелюбовь к хождению в школу, где учатся их дети. Особенно, по вызову учителей и школьного начальства.
Родители в таких вызовах чувствуют себя, поражёнными в праве свободы слова диссидентами, которых в любой момент могут лишить гражданства. Нет, за ними там оставляют право выражать свои лучшие качества, но только те из них, которые связаны, исключительно, с покорностью, состраданием и благотворительностью. То, что наши с Валеркой мамы, до скрежета зубовного не любили хождения в тот маршрут, нам было известно до того же скрежета. Как известный в Одессе гинеколог, к тому же, женщина с авторитетной профессорской харизмой, сильной, волевой личности, Валеркина мама в том хождении могла, при желании, и летать, учитывая, преобладающе женский контингент педперсонала школы. Моя же мама - диспетчер автобазы могла рассчитывать, исключительно на твёрдую походку с той же харизмой, но без профессорско-гинекологической составляющей. Великие, вечно занятые мамы, не должны ходить на публичные казни собственных чад, и просить у педагогов об амнистии на площадях. Потому и не любили. И тем суровей была кара провинившимся чадам, давшим повод учителям к такому жертвоприношению.
Господь не даёт испытаний, на которые не даёт сил. Знать бы это пионерам с момента принесения клятвы пионерской, но, увы, не учат такому в школе. На удивление, экзекуции обошлись, даже не малой кровью, а унылыми соплями, комендантским часом, и временным мораторием на некоторые детские радости жизни. Галина Георгиевна, мама Валерки, нашла общий язык с Анной Израилевной. Гинеколог с женщиной всегда его найдёт. Моя мама, очевидно, зашла с другой стороны, но тоже, договорилась о моей реабилитации до конца четверти в виде пересдачи контрольной. Она всегда умела располагать к себе людей, даже тех из них, кто женщины. Жизнь постепенно начала возвращаться в тела двух одесских шестиклассников, а с ней, и привычное счастье детства.
Рига. Сентябрь 2021 г.
© Copyright: Олег Озернов, 2021
Свидетельство о публикации №221091901626
Продолжение здесь