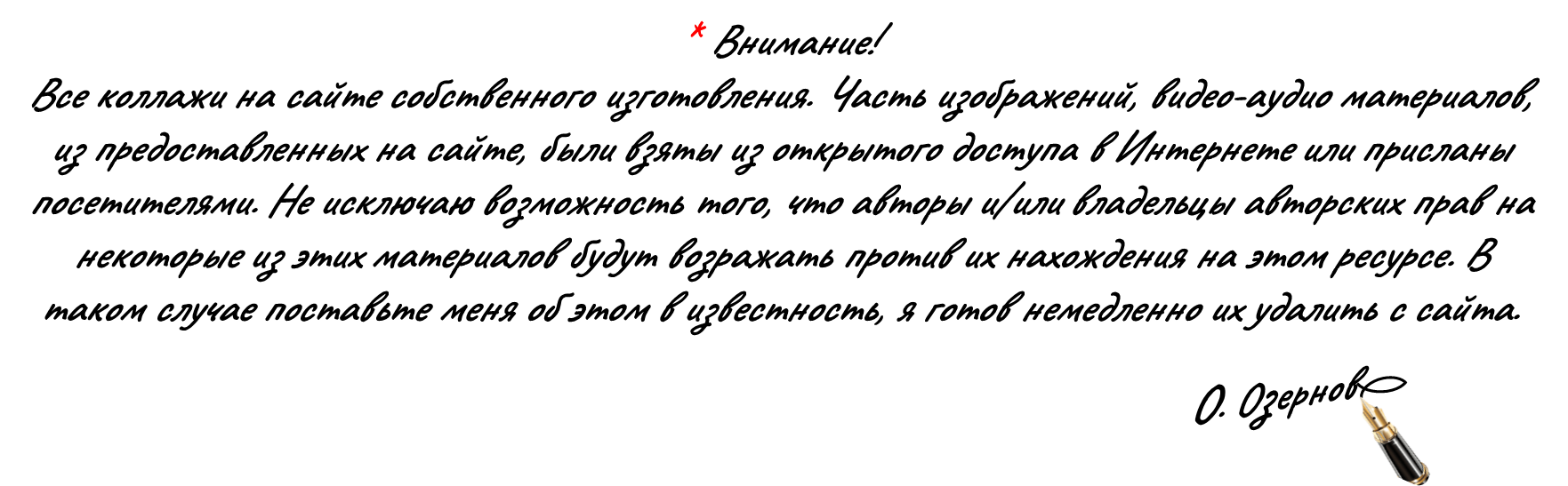АЛИКОВЫ ДНЕВНИКИ
(Часть 1)
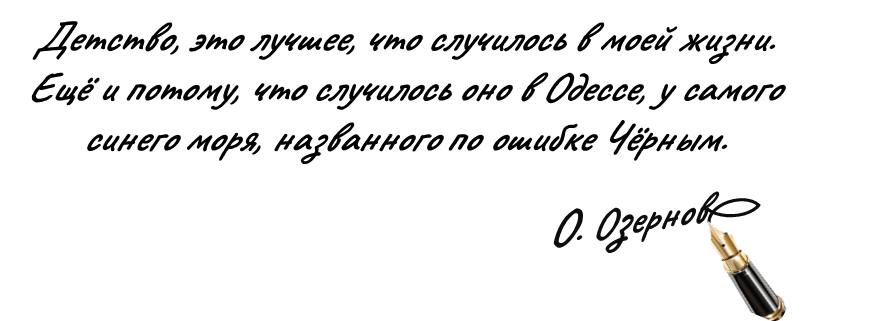
(см. сноску *)
Отрывки, черновик. На правах рукописи ©

Вас выпускали из школы, института? А из детского сада? Меня выпускали. Одесса 1959 г.
О существовании целого мира за стенами сего роскошного заведения тогда и не подозревал. Мой садиковский мир уютно помещался между Дерибасовской 12, где мы жили в большой коммуне, и Приморским бульваром с дворцом графа Воронцова. Это самый центр Одессы, значит, центр мира. В переулке под названием Краснофлотский, примыкавшим ко дворцу, и гнездился мой ясли-детсад. №… не помню, потому что, и не знал никогда.
В заведение приняли без экзаменов, годика в полтора, для чего и нужно-то было всего лишь расписаться, вернее распи́саться на белой простынке с лиловым экслибрисом заведения, и инвентарным номером с большими цифрами. Упоротым правдоискателям покажется подозрительным запоминание полуторагодовалым дитём таких подробностей, но факт имеет место быть. Помню! Сам номер нет, а фигурное изображение на бельишке казённом, врезалось в незамутнённый разумом мозжо́чек ребёночка навсегда.
Много, расписанных после, детсадовских постельных принадлежностей, утекло с тех пор, много выросло зубов молочных во рту, водки не знавшем. Там начал любить девочек, неосознанно, но пылко, что закрепилось в поведенческой модели на всю последующую жизнь. Там впервые бил лица, получал сдачи, познал несправедливость наказаний, учился презрению к ябедам, а ещё, ненависти до тошноты к молочным пенкам и манной каше. И вот, он настал, момент первого в жизни выпуска из оттуда-то в куда-то. Знал бы тогда, откуда куда, фиг бы выписался. В принципе, жить можно было и дальше. Чисто, кормили, выводили на прогулки, к морю тоже, ко дворцу графскому с колоннадой, развлекали чтением на ночь настоящих книжек.
В том мире детей носили на руках. Да! И меня! Нас носили спать на свежем воздухе, чистом, морском, с лёгким привкусом портовых трудов мазутным, канатным.

Это, если погода позволяла. Если нет, укладывали, закутывали, и просто открывали окна настежь. Дневной сон. Так закалялась сталь. Прекрасно закалялась. До сих пор сохранилась привычка спать с открытым окном.
С трёх лет прогулки по Приморскому бульвару, мимо Колоннады, дворца Воронцовского, Дюка, Потёмки к Пушкину, и пушке, это ли не счастье! И вниз, в парк буйный между морем и бульваром. И море лазурное всегда перед глазами. Идёшь, бывало, в панамке, в строю малышачьем, держишься за юбочку, идущей впереди девочки, чувствуешь, как держится за твои штанишки сзади другая девочка, и думаешь, - ну, почему я не умею писать стихи! До сих пор не понимаю, зачем нужно было что-то менять.

Уже тогда утята интересовались живописью, и слушая воспитательницу, мечтали о своём, не забывая помучить её глупыми вопросами и рассуждениями.

Летом нас вывозили «к воде». Это называлось - «Детский сад на даче». На той первой в жизни даче, запомнилось, и навсегда вошло в душу море. Тёплое, ласковое, белобарашковое чудо. Его хотелось больше, даже мороженого, фруктов, и приездов мамы на выходные. Нет. Приезды мамы, соврал. Но купание в море действительно было каждодневным праздником, лучшим в той поре малышачей жизни. Утром мы с ним делали зарядку, мы свою, оно - свою. И не было вкусней команды воспитательницы - «В воду!». А после обеда и дневного сна искупнуться в море было настоящим счастьем. И как же не хотелось вылезать из гостеприимных волнушек на раскалённый песок, и топать на полдник с его фруктами, кефирами.

Чем плохи сказки, тем, что быстро заканчиваются. Ещё тем, что мы живём в них, не осознавая сказочность момента. Потом, уже, став взрослыми, вдруг понимаем, что это она и была - сказка, дивная и неповторимая. Закончилась и эта, сказка раннего безмятежного детства. Настал черёд новой, школьной, осознанной, как сказка, так же в той самой взрослости, много лет спустя.
И входил я в неё, таким себе бу́циком, бегло умеющим читать, выводить кривенькие буковки в нехитрых фразах, завязывать шнурки, знакомым с простыми начальными правилами жизни в коллективе, знающим наизусть несколько стишков и песен, весёлым и светлым.


Момент выпуска полагалось запечатлевать на фотобумаге. В садик пришёл особый человек – дядяфотограф с потёртым фибровым чемоданчиком и треногой, натруженных руках. Он был злой. Все они, фотографы злые, властные, им всё не нравится. Они выламывают руки, бьют тебя по коленкам, и слепят в глаза лампой. Им всегда нужно, чтоб ты изображал из себя не себя. При этом смотрел, куда он укажет, но обязательно мечтательно и с верой в будущее. Этот тип рукоприкладством выстроил из меня нечто загадочное для меня же и окружающих. Нянечки и воспитательницы сочувственно улыбались и всем телом угождали процессу правильного запечатлевания. Позади стула выпускников повесили на бельевую верёвку единственно чистую от росписей тех же выпускников, простыню. Самое страшное, это то, что у дядяфотогрфа, с собой был бант, который до поры был припрятан в его вали́зе. Девичий бант на булавке одевался по очереди на всех, кроме взрослых, цветов в горшках на подоконнике, и садиковских животных (канарейки и кота), наблюдавших за выпуском, из клетки и с ближайшего радиатора отопления. Извратив мою мальчишечью суть по своему представлению, дядяфотограф сделал своё дело и устало удалился, откуда пришёл.

По результатам потомкам было трудно понять, кого же выпустил садик. Это сегодня мальчик или голый щетинистый бугай на проспекте с бантом на шее никого не удивляет, а тогда, запросто могло стать детской психотравмой на всю жизнь. Что и случилось под марш металлургов из садиковской радиоточки. Из-за чего, многие годы двусмысленное фото гордо и по-мужски пряталось от сторонних глаз в разных потаённых местах жилищных условий. И, только с приходом истинной европейской толерантности, с подъёмом в душе было извлечено из гонений и, наконец, увидело свет во тьме. «Комплекс мимишного котика» ушёл, память осталась. Кто скажет мне, стоило расширять тот маленький, но светлый и уютный мирок, пронумерованный инвентарными номерками и годочками безмятежья, до непонятных размеров сегодняшнего, чипированного насквозь, огромного и жестокого мира с ярким привкусом безнадёги?... Бог с ним, с этим злосчастным бантом, и несчастным горьким фотографом, который, скорее всего, в основном специализировался на запечатлении похорон, свадеб, а в тот день, просто, подменял штатного детского дядюфотографа, доброго, и похожего на Карлсона.
И, не смотря, на все эти, длинно описанные переживания, в общем-то пустякового эпизода, воспоминания о том садике сегодня звучат мелодией сказки из детства. Если забыть о банте, кашах, и страшных муках стыда, вины, и сырости записянных матрасов, в этой сказке было полно чудес. Даже, из круглосуточных садиков детей забирают на выходные домой. Случается это всегда по-разному.
Иногда придёт за тобой мама или папа, и ты будешь счастливо шагать с ними через площадь Потёмкинцев, и ещё три квартала до родного дерибасовского дома. И сразу за лесенкой под аркой, ведущей в Пале-Рояль, если бюджет родителям позволит, вы не сможете пройти мимо любимой булочной, обязательно зайдёте туда, а там!... Там-парам-пам-пам!... Там за девять копеек тебе обязательно купят булочку с изюмом! Это вкуснее всех булочек и пирожных мира. Может, от того, что в ней было столько изюма, я и заболел с детства верой в честность человечества. А изюм стал любимым лакомством, которое с тех пор ищу во всём, включая в список, женщин, друзей, и литературные произведения. Вся её тонкая, тёмно-тёмно коричневая корочка была усыпана пузырьками, притаившихся под ней изюминок. Именно те, притаившиеся, слегка закармеленные, чуть вязкие на разгрыз, были самыми вкусными. Они извлекались по одной, и каждая елась, как отдельная конфета. Ещё, сверху по корочке были рассыпаны сладкие крошки, навроде печенья. Булочки всегда были мягкие, пышные, и если слегка сдавить в пальцах, обязательно возвращали себе прежнюю форму. Иногда с ними покупались за шесть копеек булки франзольки, на местном наречии - саечки. Просто белая булка из теста в форме миниатюрной рыбацкой лодочки, с продольным надрезом, хрусткой корочкой, и твёрдыми острыми попками по концам. Вот эти попки и отламывались в первую очередь, и поедались без оглядки, с риском наколоть в рту острыми крошками. Всегда вкусно обходилось без жертв. На следующем квартале за булочной, между Ласточкина и Дерибасовской, монументалил фасадом любимый магазин со скучным названием «Канцелярские товары». Его специально так назвали, чтоб спрятать под такой отпугивающей вывеской, горы чудес хранимых за огромными, почти пустыми витринами. Мне садиковскому, для мечт тогда хватало и витрин, с тем, что на них блестело, белело и завораживало детское воображение.

(Вот, и девчушка эта малость замечталась на весеннем солнышке. В детстве умеют мечтать)
И уже позже, школьником, тяга к ручкам, блокнотикам, чистому листу белому, металлу, блестящих чертёжных инструментов в бархате, переросла в неотвратимую привязанность на уровне страсти. Ну, как можно не остановиться, не заглядеться, на раскрытую готовальню! Как пройти мимо, щедро раскрытого толстого блокнота с календарём на весь год, белых распахнутых альбомов и тетрадей, так приглашающих писать, чертить, рисовать всё, что тебе заблагорассудится?! И я шёл заворожённым мальцом мимо этих чудес, доедая вкусную булку, в предвкушении обладания всем этим волшебством. Не из этих ли предвкушений выросло желание творить у будущего инженера, и немножко писателя…
Иногда меня забирал из садика дядя Лёша на мотороллере «Вятка», муж маминой подруги. В разное время его мотороллер казался мне то конком-горбунком, то гномом из сказки, то салатовой божьей коровкой. Я становился на его по́лик, надёжно придерживаемый, ограждённый с двух сторон руками и коленями дяди Лёши, и брался за руль. А по центру, между наших с ним рук жила-была огромная, как мне тогда казалось, фара, необыкновенная и блестящая. Она мне и сейчас такой кажется. И вот, мы ехали в «четыре руки», я свято верил, что это я рулю, и наш «конёк» послушно моим желаниям мчится по булыжной мостовой. На самом деле, мы летели над ней на крыльях! Куда захотел, туда повернул, и летишь себе без преград. Это ли не восторг! И нет сожаления о том, что любимая булочная и «готовальни» проплывают мимо. Они немножко подождут, не обидятся.
На перекрёстке К. Маркса и Ласточкина мы всегда приостанавливались, и я гордо осматривался по сторонам в стремлении непременно увидеть лица, завидующих мне мальчишек. Сейчас, спустя 60 лет мелькнула мысль, - «Так нарождается гордыня». И пусть!... А тогда?… А что тогда, малыш просто летал, «рулил», слушал звук чудесного мотора, и чувствовал себя летающим кенгурёнком. Разве не сказка?
Много лет спустя, в моих поездках в Китай наблюдал таких «кенгурят» тысячами в день, и каждый раз вспоминал те сказочные мои полёты. Удивительно, Китай возвращал меня в сказку детства, совсем далёкого от Поднебесной. Сам Китай - другая сказка, может, когда-нибудь расскажу и её… Как сегодня понимаю, притормаживали мы на единственном перекрёстке в пути для того, чтобы дядя Лёша выбрал, куда лучше ехать. Заехать в мой двор можно было с двух сторон, с Дерибасовской через перекрёсток с Карла Маркса, и с Ленина напротив Оперного театра. Где было поменьше транспорта, там и ехали. Сто раз больше, конечно же, мне нравилось, когда мы сворачивали на Ласточкина к Опере. Ещё квартал, и мы выносимся на площадь перед ней, а впереди, за спуском к двум музеям и пароходской проходной, видно море. Это, будто мы набрали ещё большую высоту, и вот-вот, нас крылья вынесут в морской простор. И как всегда было жаль от того, что дядя Лёша сворачивал у театра вправо, и уже через минуту море исчезало, а мы въезжали в чёрный, всегда прохладный, длинный подъезд нашего дома.
Там начинался мой первый в жизни двор. Но это уже другая сказка. Дворовая.

Всю жизнь благодарен Фёдору Эрисману, придумавшему школьную парту. Она не позволяла детёнышу сутулиться, и предлагала смотреть на всё печатное под прямым углом. Не то, что нынче, - на всё искоса, и сгорбившись за тонконогим, холодно-бездушным столом. Та парта вся была сделана из массивного, главное, натурального дерева, тёплого в холод, прохладного в жару.
За такой партой вырастали прямые, стройные люди, с хорошим зрением и прямой осанкой.
Особая благодарность простому ссыльному петербургскому студенту Короткову, который придумал эту парту двухместной, с откидной крышкой, лункой для чернильницы, желобками для ручки, и ящиком для учебников, тетрадок, а ещё - крючком для портфеля сбоку парты.
Главное здесь, что? Двухместность, скажу я вам!
И таки не надо делать мне глаза круглей, чем их придумал вам Господь!
Сейчас негде детям учиться сидению вдвоём на скамейке! Каждый учится сидеть на своём стуле.
Эта парта учила нас сидеть рядом, на одной скамейке, учила чувствовать тепло плеча, и локоть, сидящего рядом человека. Зимой, летом, слушая, читая, ваяя диктанты, контрольные, любовные записочки, играя в морской бой, рисуя всегда одинаковых принцессок, танки и, больше напоминающих цыплячий след на снегу, солдатиков.
Очень нужное умение. Умей люди это все с детства, жизнь играла бы другими красками, не плевалась бы во все стороны свинцом с ненавистью пополам.
Городской транспорт, самолёты не в счёт. Ну, что это… Посидели сколько-то, и разошлись-забыли.
А здесь, почти всё детство рядом, плечиком к плечику, не отодвинешься.
Маленький трёхпалубный кораблик для двоих, путешествующий в поисках клада знаний. И на каждой палубе своя жизнь. На верхней – официоз на общественное обозрение. На второй, ящичной, - складская романтика бутербродов в газете с портретами ЦК и Лумумбы, тетрадок, учебников, промокашек, ма́ялки, кед, томика Конан Дойля, для чтения на уроках краем глаза, прочих мальчишеских важностей. Самое тайное обитало на третьей палубе под первыми двумя. Там жили наши ноги, скрытые партой от посторонних глаз.
Геня Ген...лер в третьем классе была некрасивой девочкой. С красавицами во взрослости в детстве такое бывает. В моём списке fillettes jolie Геня точно не состояла. Неровные редковатые зубки в брекетах, крупный носик, угловатая фигурка, классный статус - мышь серая.
Сам я был хлопец, разумеется, шикарный, гарный парень на деревне, с чубчиком, хулиганистый правда, но без гармошки.
И вообще! Что там Геня! От тогда и по пятый класс я преданно и безответно любил Наташу Т-ко! Заодно, чтоб время зря не терять, - учительницу физики Людмилу Ивановну, артистку Вертинскую Анастасию, и мамину подругу Люду с Островидова. Чуть не забыл, - плюс, одну девочку из восьмого класса «А», имени не знаю до сих пор.
Судьба ничего не делает зря. Жаль, что понимать это мы начинаем тогда, когда это понимание уже ничего не влечёт за собой, кроме хлопанья ушами по щекам с видом слона, набравшего в жару полный хобот жижи, из высыхающего озера, и восторженно поливающего себя этой субстанцией. Только, вместо жижи наши слёзы.
С Генечкой она и свела нас на чудесной парте Эрисмана – чёрный верх-тёмный низ.
Совместное сидение за одной партой началось незаметно, и ничего не предвещало. Первые два года. Борьба локтями за отвоёвывание территорий, промокашек и чернильницы, всё как обычно, у начинающих солдат за место под солнцем. Военная рутина без жертв, падения коней и фронтовых сводок.
На третий год мы повзрослели. Неожиданно. Случилось это весной на уроке чего-то там. Внутренне класс готовился вступать в пионеры, предвкушал летние каникулы, обилие мороженного, черешни и пляжных радостей. Это висело в атмосфере, уставшей от нас за год школы. Готовился и я, ко всему, кроме пионеров. С моей репутацией в педсовете пионеры мне не светили, только подмигивали. Плевать, в душе я был пионеристей их всех, вместе с педсоветом и Советом дружины школы!
За год мы все немного надоели друг другу, много – учителям, при полной нашей взаимности. Всем хотелось сбросить одежды, в море, за город, к бабушкам с пшонкой и ра́чками, в панамки, пупырышек на коже от перекупания, слушать пионерлагерные горны и барабаны.
В окна залетали, заблудившиеся от зимнего спросонья, очумевшие пчёлы пополам с такими же мухами. Упомянутая атмосфера в классе, щедро сдабривалась чудесными весенними ароматами, цветущей Одессы, запахом тающих в портфелях, сплющенных бутербродов, и коридорно-паркетной мастики. За дверью специальный человек, надев на ногу щётку, натирал ею полы.
Короче, начинался май, томился мир, и вдруг…
В нашем сидении за партой зазвучала мелодия. Робкая, застенчивая, не знаемая ранее.
В просто, привычный и понятный пацанячий мир ворвалась, на самом деле, просто прижалась к нему, тёплая девичья ножка. Взяла, и прижалась к моей. Это не было случайным прикосновением, изредка случавшимся в тесноте парты не раз! Бывало, пихались ногами под партой, в «коммунальных» разборках, кто не пихался… Сейчас всё было по-другому.
Генечка прижималась ко мне ножкой медленно, вкрадчиво, осторожно.
Эх, какая чудесная волна окатила меня, застала врасплох и удивила! Я замер, так это было волшебно и сладко. Как же не хотелось потерять эти новые ощущения… Не шелохнулись, замерли, я в ответ прижался сильнее.
Ведь мог отдёрнуть, нагрубить, насмеяться над «гадким утёнком», пацан молдаванский. Какой там! Пацан таял в неизведанном сладком познании нового мира, как эскимо на сковородке.
Какая замечательная тайна доверия и близости пролегла между нами! Мы сразу стали отдельными от остального мира, и создали свой, робкий, недоступный никому. И нам было в нём чудесно.
Слава парте Эрисмана!
Над ней всё было, как у всех. Под ней, защищённый ею со всех сторон, нарождался новый мирок высших, чувственных познаний человеческой природы, невинный и прекрасный.
Как ждал всегда звонка с урока, и как же не хотелось его услышать теперь…
Звонок с урока неизбежен. Вся наша жизнь урок и школа. И он звенит и на уроках счастья, и на уроках горя и беды, и по окончании школы жизни.
Звенит, все вскакивают с мест, а мы подзадержались на миг, не желая возвращаться к людям, и как бы, доказывая друг другу, что всё случившееся, не случайно.
Собираем тетрадки, не поднимая глаз. Пока, пока.
Конец учёбы, каникулы на носу, уже и на дом ничего не задают, Геня, которая совсем не Вертинская, даже, не Наташка Т, а я с трудом дождался утра. Чтобы бежать в опостылевшую за год школу, чтобы снова испытать эти новые чувства. Скорее сесть за парту, и обязательно убедиться, что это всё не было случайностью, не показалось, не надумалось.
Убедился. Мы, сели в наш кораблик, даже чуть раньше начала урока. Так себе, невзначай. И сразу прижались друг к другу.
Вокруг всё происходило, как всегда. Вызовы к доске, контрольные, продлёнка, моё стояние на уроке у двери за шкодные выходки и мелкие потуги хулиганства. Было такое наказание в нашей школе. Ляпну чего в тишине класса на уроке, кину в ответ чего-кому, муху по окну погоняю, - марш к двери! И стой до звонка. Впрочем, и в этом стоянии, удавалось класс развлекать по-разному, в основном пантомимами.
Расхотелось «звездить», к двери расхотелось.
Появился магнит попритягательней. Из под парты отношения выбрались наружу, стали чуточку другими, обрели новое доброе звучание.
В этом звучании и моих глазах Геня похорошела, постройнела и поумнела. Что в её глазах, не знаю, но из них ушёл страх, появились дружественные нотки и улыбка штрихом.
Детям не свойственно улыбаться. Это не их, это взрослый инструмент общения, реакции на мир. Дети естественны, непосредственны, политесом не болеют. Поэтому смех и слёзы сразу, без раздумий, налётов мудрости, ехидства, презрения. Дети откровенней взрослых.
Класс не знал, и не догадывался. Да и, что было знать… Что мы сидим, прижавшись ножками друг к другу? Насколько помню, в основном всех рассаживали девчонок отдельно парами, мальчишек отдельно. Есть подозрения, меня специально сажали с девчонками, чтоб те положительно влияли на неугомонную натуру шустрого троечника. Став постарше, мы уже сами выбирали, кому с кем вершить за партой дорогу школьную.
Так мы и сидели прижима́шками, все оставшиеся до конца учебного года две недели. Стали больше болтать на уроках и после, обмениваться всякой ерундой, совершать маленькие школьные приятности друг другу, чего раньше не было. Хранили от остальных свою невинную тайночку, неожиданно понятого тепла соприкосновения двоих, и нам это нравилось.
Почти не ссорились, что не редко случалось раньше. И, если пробегала между нами чёрная кошка, быстро её прогоняли, потому что ссорясь, сидели порознь и оба испытывали чувство потери. Наши ноги под партой мирились раньше, чем умишки.
И привыкли к этому, и ничего из этого дальше не происходило, и произойти не могло.
Но произошло.
Не могло не произойти, потому что всё в этой жизни не бесконечно. Особенно то, что не может, по природе своей иметь продолжение. Обретённое тепло доверия, если оно не обрастает много бо́льшим, чувствами, совпадениями, дружбой, чувствами, бесконечным интересом друг к другу, теряет прелесть новизны, переходит в привычное, становится, даже лишним.
Это был наш случай.
Урок уже был не урок. Обычное доживание учебного года перед последним в нём звонком. Всеобщий трёп с учителькой, междусобой, вопросы-ответы, как будете проводить лето, задание на каникулярное чтение, весело, здорово, май на исходе, счастье.
Мы уже чего-то там складывали в портфели, шебуршились, как все, когда я, в грустном предчувствии расставания, от растерянности моментом, чего-то ляпнул Генечке или сделал чего безобидное, что ей сильно не понравилось. Уверен, ничего, действительно обидного. Ну не мог я её обидеть серьёзно. Не мог, я знаю. Ей показалось иначе.
Геня резко встала, отчего всё стихло, и срывающимся от возмущения голосом, почти прокричала на весь класс, - Валентина Фёдоровна, он мне под партой ноги суёт!!!
…
На всю жизнь запомнил этот возмущённый крик. Никогда после не испытывал такой растерянности, от обрушившейся непонятно откуда несправедливости, от первого в жизни «женского предательства». И было жутко стыдно под этим обвинением, будто пойман был на воровстве. К предательству нельзя привыкнуть в принципе. У женского особый привкус. Яда. Их было потом. Дело житейское. Со стыдом, повзрослев, разобрался-улыбнулся. А класс заржал, веселье продолжилось. Валентина Фёдоровна растерялась, но в тот момент звонок с урока закончил cette petite tragédie. Гвалт, галдёж, хлопанье крышек парт, школа дружно высыпала из классов в коридоры, и был праздник свободы. Каникулы!
Через год Геня ушла из нашей школы в другую. Близкие пацаны ещё иногда спрашивали, краснея любопытством, что там было на самом деле. А что могло быть, никто и не представлял, я в том числе.
Целомудренно в той стране детей растили. После, девчонки совсем не пугались садиться со мной за одну парту. И ещё две, Аллочка и Таня благополучно отсидели со мной на творении Эрисмана, правда, на максимально возможном скамеечном удалении, за чем я следил внимательно и жёстко, пока не закончил восьмой класс и не ушёл в мореходку становиться мужчиной.
Шапка

Что может быть грустнее, холодеющего пляжного песка на избеге осени. Только, остывшие обрывы берега, усеянные голыми скелетными остовами, ещё недавно изумрудно зелёных кустов и деревьев. Песок тяжелеет и замирает в ожидании морозов. Песок растерян, как память, хранит следы недавних пляжников. От тех следов пляжи лунны, сто крат Луны луннее.
Скоро мороз прихватит песок в камень до следующего лета. И до этого часа редкие гулёны на побережье будут мучить свои ступни в бесконечных вывертах на больших и малых неровностях. Пляжи не парки, не укрываются к зиме толстым слоем отжившей листвы, духмяной и пёстрой. Запах моря тоже затихает, сбегает в тёплые широты. Всё правильно. Зачем он, если некому его вкушать лечебно и живительно.
Чайки перебираются в город со всем птенячим потомством, подросшим, но пока, несмышлёным, не готовым добывать рыбу в ледяной воде. Море творит свою вечную работу, лишь слегка поменяв цвет воды, добавив в волну больше серых, свинцовых тонов. Ну, и волна в забеге на берег стала прожорливей и круче, в жадных попытках слямзить по случаю насыпного песка, и зодно, зазевавшихся топчанов, сложенных в терриконы у берегового подножия. Люди вернулись в город, скидки берегу закончились до следующего лета! Обитатели рейда бросают больше якорей, чтоб надёжней удержаться на стоянке, при такой, потяжелевшей свинцом волне. Не так уж много места на рейде. Ночью светится корабельными огнями, как город. Порт, как всегда, забит судами, всем полезным. Тальмана́ и докеры с трудом справляются с трюмами, таможенники - с разноцветными печатями. Надо всем тяжёлые облака, с которых вот-вот посыплется по-зимнему на всё, что вижу. Вдалеке бродят несколько парочек, неподалёку пожилой гражданин, похоже одинокий. Кроме палочки опереться не на кого. И хлеба в карманах нет. Редкие чайки облетают стороной.
Ненадолго присел на парапет у ланжероновского шара, поручив ему прикрывать меня от пронзительного ноябрьского ветра. Иллюзия защиты. Какой из шара защитник от ветра... И пальтишко драповое совсем не шуба. Зачем я в этой картине, неуютной, с попой от камня холодной… Ни за чем. Просто один, просто у моря, просто казёню. Неосознанное спокойствие, простор (от слова "просто"?) мечтам. В городе им тесно, бьются о постройки, людей, машины. В городе нужно смотреть под ноги, иначе упадёшь. Можно остановиться, глянуть в небо, но нужно выбирать место, чтоб не толкнули. Здесь, пусть и холодно, зато, глазам и мечтам воля. У моря хорошо думается, морю можно доверить самое сокровенное. Потому часто и казёнил уроки, бродя и бредя побережьем. Портфель под лестницу, сваренную лучшим сварщиком завода Марти, специально для мамы, чтоб был у нас отдельный ход во двор. Школьный бутерброд в карман, и вперёд! Двадцать восьмым трамваем в парк Шевченко, дальше ножками по пляжам и холмам побережья. В часы особой задумчивости доходил до Аркадии через Отраду по только-только построенной «Трассе здоровья». Она чуть выше пляжей, но это ерунда, в излюбленных местах спускаешься к ним, и люби себе, сколько хочешь. Не хочется уроков, хочется свободы сам на сам.
Нагуляюсь, вернусь в тепло дома. У нас теперь есть печка, каменная, потрескавшаяся, пока, я здесь, ждёт моих рук.
Совсем недавно мы перебрались из девятиметровой однокомнатки над подъездом в аж двадцатипятиметровку, тоже над подъездом, в соседний двор на Комсомольской. С печкой и сарайчиком для дров-угля в том же подъезде! Как это удалось маме останется тайной. Всегда знал, что нет такого чуда, которое не могла бы совершить моя волшебная мама. Не нужно завидовать, нужно понимать! Сидеть у печки, подкладывать туда полешки, и смотреть, смотреть, смотреть на эту фантастическую игру, вольные танцы огня, потому что, сделав так, сразу не чувствуешь холод и свою слабость перед холодным миром. А что это за великое удовольствие, колоть дрова и нести их в дом, и спать в этом нагретом твоим участием доме! Тяжелы вёдра полные угля, а несёшь их с предвкушением тепла для всех, созданного тобой и замечательной печкой. Не зовите меня ужинать, я боюсь потерять это тепло! Любовь почти всегда наказуема, любовь к печке - нет, если вьюшку рано не закрыл. Не зовите!
До печки далеко. Казёнить нужно целый школьный день. Раньше дома не объявишься. Соседки могут заложить маме, и будет сильно бо-бо. Поэтому печура тёплая там, а я здесь, на остывшем и ветренно-злобноватом морском берегу. А ещё потому, что, кроме мечтаний, именно в таком сером мире и можно учиться пониманию серых сторон жизни. Вот, например, под этим белым каменным шаром я решаю, как мне появиться в классе, после того, что случилось вчера в школе.
В нашем классе, как и всех одесских тогда, многонационально учились только районно-приписанные, а значит, смачно сословно-смешанные. Самое время спустить глаза со лба на их законное место, и понять, что набирали учеников в школы исключительно из района, географически окружавшего ея, школу, в границах комфортного для учеников доступа. Поскольку жили в тех районах люди самых разных советских сословий, состав учеников копировал ту многосословность. Не знало то время элит, и было это славно.
В классном таборе прекрасно уживались отпрыски рабочих, посудомоек, профессоров, инженеров, врачей, чиновников. Космонавтских не было. Летали тогда редко, штучно величественно.
Отличались портфели, пеналы, одёжка, ботиночки, остальное, почти одинаковое. Единственно, «профессорские» хулиганили меньше, никогда не прогуливали, и крайне редко опаздывали на уроки. Замечательные люди потом выросли из всех. К ноябрю, понятно возбуждался родительский комитет класса - собрание мамочек, могущих позволить себе тратить время на общественную работу, в отсутствии необходимости тратить его на основную, за спинами, хорошо зарабатывающих пап. Сказать, что все эти комитеты и взрослые расклады мне были до сгоревшей лампочки, ничего не сказать. Я, вообще, лишь смутно догадывался об их существовании. На предпоследнем уроке классная предупредила о совместном собрании класса и родительского комитета, имеющем место быть после занятий, и ни как иначе, и застаём картину - учительский стол, на нём несколько разных коробок, свёртков, вокруг стола несколько самых активных комитетчиц и классная. Всё сияют, коробки - свёртки тоже. Дальше пламенные речи, вознёсшие в небеса ораторш, раздача слонов и материализация духов. Там что-то о наличии в классе детей из горько малообеспеченных семей, зиме на носу, и живой заботе о будущих поколениях в свете последний решений партии и правительства, заодно с родительским комитетом. Класс, каменно замерев в своём прекрасном детстве, внимал, ничего не понимая. Духи материализовались во вполне практичные вещи в виде шапок, шарфиков, ботинок и варежек. Называлась фамилия ученика, он выходил к столу, и после некоторой суеты с определением размеров, ему вручалось что-нибудь из одежды или обуви. Ученик разворачивался лицом к классу, пауза, и по дирижёрскому знаку классной, бурные аплодисменты сочувствующих одноклассников. Раздача четверым низко-социальным прошла быстро и весело. Видно было, что комитет спешил. Замешкались, только в конце, когда из всего богатства остались пара варежек. После короткого шепотного совещания классной с комитетом, вызвали кого-то из девчонок, и она тоже сорвала аплодисменты. Мне подарили шапку, блестящую, с нежным чёрным, искусственным мехом, понравилась. Она была немного теплее моей "старушки", и уютней, радовала новизной, подтверждённой картонной биркой на верёвочке. Валерке Шлапунову, другу, - шапку, ботинки и шарфик. Очевидно он, на голосовании комитета прошёл, как дитя из самой неблагополучной семьи, нежели я. В бодром шапкозакидательском настроении пришёл домой, похвастаться домочадцам. Разговор с мамой. Шапка, с не оторванной этикеткой, так и осталась в коробке. Штрихами узнал, что-то о гордости, унижении, чувстве собственного достоинства. Немного плакала после, выйдя на кухню, заметил краем глаза...
Потому особо не гулялось, сиделось у шара, совсем не мечталось. Вечер. Возвращение с "казённым" лицом. Ко мне никто не принюхивается в предположении учуять запах моря, как немцы, к белорусскому партизану с известным запахом костра. Предвестником беды, и вместо "здравствуй", встретил возвращенца увесистый материнский подзатыльник. Спалился партизан. Казёнка всплыла наружу усталым кашалотом, китобои взяли гарпуны на изготовку, на плавбазе наточили флейшерные ножи.
В этот день мама была в школе, относила шапку классной. Меня там не было, я был у моря. Печалька...
Продолжение здесь